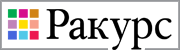

Семен Глузман: Мы возвращаемся к урокам советской власти
https://racurs.ua/832-semen-gluzman.htmlРакурс(Продолжение)
— Семен Фишелевич, сейчас в парламент пришло немало представителей нового политического поколения. Как вы думаете, есть шанс, что хоть кто-то из них не перейдет на ту сторону баррикад, а все-таки станет какой-то смычкой между обществом и властью?
— Боюсь, что шанса такого нет.
Первое, о чем думаю в этой связи: в начале независимости Украины с десяток бывших политзаключенных попали в парламент. И чем это закончилось? Разочарованием. В них, т. е. в нас, бывших диссидентах.
Есть интересный момент, о котором не говорят. В Москве бывшие диссиденты пошли в правозащитную деятельность. Не потому, что там не было возможности реализовать себя в профессиональной политике, тогда эта возможность еще существовала. Они продолжили то, за что, в общем-то, сидели. Здесь, в Украине — никто. Ну вот разве что меня заставили (смеется), и я стал директором украинско-американского бюро защиты прав человека. Это правда, меня уговорили, принудили друзья.
Меня не раз уговаривали идти в парламент. Однажды я ответил очень жестко, сказал, что не смогу находиться там, рядом с ними, я умру, если буду подолгу сентенции выслушивать Витренко и Симоненко — и молчать. Мы с Мирославом Мариновичем в политику не пошли потому, что понимали, что это такое. А для других политика была ближе, вдруг оказалось, что права человека — вещь для них второстепенная. Может быть, это тоже был очень плохой симптом, на который мы тогда не обращали внимания. Потому что одно дело сидеть в карцере, объявлять голодовку и бороться с тоталитарным государством, и совершенно другая профессия — строить страну, причем с нуля.
Сейчас повторяется та же история. Часть тех, кто пришел в парламент, — славные бойцы… Но в большинстве своем в новых условиях они несостоятельны. Не потому, что они глупые или необразованные. Там есть умные и образованные. Но это другая профессия. Их профессия основана на решительности и мгновенной реакции, а здесь так нельзя.
Поэтому, к сожалению, революционные события в Украине могут привести к ухудшению ситуации, как, к примеру, происходящая сегодня безумная люстрация. В частности, я не понимаю, почему нужно люстрировать человека, укравшего миллиард? Посадите его в тюрьму. Но докажите, что он украл миллиард, если мы говорим о правовом государстве.
— Не профессиональные военные, а люди, значительная часть которых никогда не готовила себя к войне, но мобилизованные государством или ушедшие добровольцами, видят, что война — там, а в остальной части страны, а, например, в Киеве — нормальная жизнь, переполненные рестораны, идет бизнес и процветают те же схемы, что и при Януковиче, но уже с новой крышей. То есть здесь, в тылу, мы не добились ничего. Этот пунктир, намечающий новую линию разрыва нашего общества, становится отчетливее. И эти люди имеют право задавать вопросы, в частности, за что они там воюют?
— Да, это так, а один из таких вопросов я недавно задал вслух, потому что его боятся задавать другие, но это важный вопрос: как можно объявлять мобилизацию, если сын президента находится в тылу? Где внук Кучмы? Они не на фронте. Какое моральное право Кучма имеет вести переговоры? Он не с нашей стороны.
В то же время, есть и нормальные примеры. Один мой знакомый мальчик простоял весь Майдан, потом пошел в Национальную гвардию. Он периодически приезжает и как-то рассказал, что в их подразделении служат несколько беркутовцев. Они выяснили отношения, и он говорит: это нормальные мужики, с которыми мне хорошо воевать, потому что я увидел, что они меня не подставят, а они уверены во мне. То есть этот простой парень без высшего образования мудрее, чем подавляющее большинство наших политиков… Как можно судить весь «Беркут»? Это их профессия, в конце концов.
Один мой знакомый всю жизнь мечтал поступить в высшую школу КГБ, куда нельзя было поступить так просто. Ему каким-то образом удалось, но он не прошел медкомиссию. Так вот в период, когда Украина стала независимой, он был одним из главных блюстителей нравственности в «Рухе», он всегда, постоянно видел вокруг множество «врагов-кагэбистов». Да и сегодня он — известный профессиональный патриот…
Конечно, надо говорить о том, что потери были с двух сторон. Один очень известный человек рассказал мне, что у него есть две такие знакомые семьи. В одной из них мальчик хотел поступить в военную академию, но ему сказали: сначала отслужи в армии. И он добровольно пошел, попал в МВД, в эти войска, и погиб вскоре на Майдане… И другая семья, в которой парень погиб от выстрелов с другой стороны...
Когда был Майдан, Таня Яблонская подошла к шеренге беркутовцев и начала говорить им, мол, что вы делаете, зачем. А там был какой-то подполковник или полковник, он слушал ее, слушал, а потом говорит: «Женщина, вы можете дать зарплату всем нам?..» Они служили не Януковичу, они служили своим семьям.
Я понимаю, что всепрощенчество всегда очень плохо воспринимается, но в Украине слишком много ненависти. Она накопилась за годы советской власти, до советской власти, после, и пора уже останавливаться. На самом деле нам давно пора задуматься.
— Как вы считаете, глобально для нашей страны, для общества — все происходящее, начиная с Майдана и далее, все, что пошло «не так», все-таки может в перспективе принести какой-то позитив?
— Позитив вижу только в одном: что проходит время, появляется другое поколение людей, которые уже не боятся. Они не знают таких слов, как КГБ. Они свободны. Это люди, которые смогут уже приводить к власти совершенно других людей, не таких, как мы, наше поколение. Но существует одна проблема: эти свободные люди могут не остаться здесь жить.
По поводу перспектив, кстати, еще одна непонятная мне вещь: с утра до вечера, когда ни включи телевизор, речь идет о том, что мы скоро добьемся, чтобы у нас у всех были визы. Какие визы? Да, есть группа людей, которые действительно хотят иметь возможность перемещаться. Но для подавляющего большинства людей это же не стимул.
— Полтора года назад «Ракурс» писал о результатах социсследования, в соответствии с которыми 77% граждан Украины никогда не были за границей. И очевидно, что не трудности в получении виз стали главной или единственной причиной тому. Оказалось, подавляющее большинство из нас даже приблизительно не имеют понятия, пусть даже поверхностного, полученного в результате туристической «пробежки», как живут в той же Европе, ценности которой так привлекательны для нас.
— Да, но кроме того, это не аргумент для населения. Скажите, что вы опустите цены на хлеб… Вот то, что происходит с выплатами сейчас, квартплатой. Никто не говорит правду. Все говорят только свою правду. Ну как может старушка жить на 1200 гривен и платить за коммунальные услуги?
Несколько месяцев назад я здесь, в Киеве, общался с моим хорошим знакомым, сотрудником Белого Дома, того самого, американского. Он сказал: «Мы действительно пытаемся вам помочь. И мы будем вам помогать, но есть же предел. Если ваша власть не начнет что-то делать в плане реформ, не обуздает глобальное воровство, то мы оставим вас, и вы достанетесь Путину». Это страшно, во всяком случае, мне.
— Не говоря о причинах этого явления, но не будь на Востоке Украины пророссийских настроений, пожалуй, не было бы там и Путина…
— Пророссийские настроения могут и уйти, если будет честное общение с народом. Ну почему Порошенко лжет? Про Яценюка мы вообще не говорим. Ладно, много говорить не нужно, но необходимо признаться: «Мы все стали миллионерами и миллиардерами не на каких-то албанских деньгах, а на наших, мы признаем это». Они же не хотят этого признавать. Но если бы президент был мужественным человеком, он объявил бы финансовую амнистию, и людей перестали бы судить за убеждения.
— К которым вы относите и сепаратизм?
— Понимаете, они создают новых «узников совести». Бессовестных узников совести. Для нас они такими не станут, но для них, жителей Востока Украины, будут страдальцами. Мы опять возвращаемся к урокам советской власти. Подавляющее большинство из нас, сидевших в политлагерях, обычные, никому не известные граждане, простые люди, зачастую невысокого интеллекта. Нас сделали известными репрессии КПСС и КГБ. Нынешняя власть делает сейчас то же самое.
— Вы говорите о преследовании Ефремова и ему подобных?
— Если бы Ефремов не украл носовой платок в толпе или что-нибудь еще… Но он же украл «носовой платок». Однако нынешние власти боятся прецедента, потому что тоже все замазаны, а схемы разграбления страны были и есть одинаковыми — и тогда, и сейчас. Поэтому глобально бездумно, но очень избирательно кого-то привлекают за сепаратизм, потому что нынешние очень боятся создания иного прецедента — привлечения за участие в схемах, которые работали раньше и действуют по сей день.
— На презентации своей книги вы как-то сказали, что ваш поступок — психиатрическая экспертиза генерала Григоренко, — приведший к легко прогнозируемым для вас последствиям, в значительной степени был обусловлен тем, что вы выросли на размышлениях отца о роли еврея, еврейства в трагической судьбе страны…
— Многие считают, что я не должен об этом говорить. Одним из мотивов написания экспертизы стало то, что я был неправильно информирован, полагая, что главным палачом психиатрии является Даниил Романович Лунц, завотделением Института судебной психиатрии имени Сербского. Уже потом мне стало известно, что были и русские, и прочие, и что палачом, державшим топор, был комитет госбезопасности и т. д. А тогда этот вопрос был для меня очень болезненным.
Вообще-то желание написать контрэкспертизу было абсолютно наивным. Ну, публицистику, начало и конец я написал. Но доказать что-то я сумел только благодаря тому, что московский адвокат Софья Васильевна Калистратова передала мне, какому-то неизвестному ей молодому человеку, в Киев свои рукописи, выписки, все медицинские документы из следственного дела Петра Григоренко. Кто-то из близких сказал ей, что в Киеве есть некий молодой психиатр, который возьмется за обработку этих материалов, и она передала мне рукопись — рискуя свободой, заметьте.
Так появился материал, содержащий ссылки на конкретные страницы дела, и именно поэтому эта экспертиза произвела ужасающее впечатление на мировую общественность. Это было первым серьезным документом, документально подтверждающим то, что происходит в СССР. Моим родителям чекисты сказали через день после окончания суда, что сын получил срок за «экспертизу Григоренко».
Понятно, что суды не принимали решения, они их только фиксировали. Но все согласовывалось в КПСС и КГБ. Причем в большинстве случаев даже с Москвой. Но есть и такой пример. Не помню, о первой или второй судимости Генриха Алтуняна шла речь, но, став народным депутатом, он добрался до какой-то части архивов и прочел: украинское КГБ докладывает в Москву, что гражданин Алтунян Генрих Ованесович, такого-то года рождения, занимается антисоветской деятельностью, ну и дальше — весь набор обвинений и предложение возбудить уголовное дело. Ответ из Москвы: изучив ваши документы, считаем, что возможно обойтись профилактическими мероприятиями. Тем не менее, Алтуняна арестовывают. То есть Украина в этом смысле — святее Римского папы. Кстати, наш первый президент — именно оттуда, из идеологического руководства КПСС.
…За несколько недель до формирования моего следственного дела со мной встречался высокий чин КГБ, полковник, начальник следственного управления, разговор был без протокола. Но мы с ним уже встречались когда-то, когда меня пытались арестовать, он тогда орал на меня, я на него… Он говорит: «Ну что, опять встретились? Или вы даете показания, которые нас интересуют, или получаете полностью 10 лет». Я ответил: «По статье только семь лет. Десять вы никак не можете мне дать». Наивный, я забыл, что есть еще и ссылка в Сибирь… Полковник говорил прямо: «У вас на раздумья несколько недель». Я спросил: «И что, вы выпустите меня?» Полковник ответил: «Нет, конечно, получите только три года».
Но у меня не было внутреннего выбора, я не мог идти с ними на компромисс. Не мог и не хотел сдать.
— Что от вас требовалось?
— В первую очередь, они хотели получить текст экспертизы по генералу Григоренко. У них не было целостной картины, лишь мозаика. Я был скверный конспиратор. Все мои друзья знали, что я готовил заключение по имеющимся в моем распоряжении материалам, а потом передал документ Сахарову. До этого я читал его вслух в доме Виктора Платоновича Некрасова, Леонида Плюща, других прослушиваемых домах. Чекисты хотели, чтобы я вслух подтвердил это и сказал, где я получил документы, на основании которых проводил экспертизу, и куда я дальше передал материалы.
Сначала я говорил, что не мог написать никакой экспертизы, потому что молодой. На что следователь отвечал: молодой, да ранний. Потом меня прижали чьими-то показаниями. Мне пришлось написать, что я действительно проводил исследование многих документов, связанных с обоими делами Григоренко, в результате работы с этими документами я убедился, что он психически здоровый человек и всегда был здоров. Я написал, что категорически отказываюсь называть источник получения информации и людей, которым я передал готовый документ, а также все другие интересующие следствие вопросы в связи с положением статьи о соблюдении врачебной тайны Основ законодательства о здравоохранении Союза ССР и союзных республик. Играл? Да, боялся ответить прямо: «Ничего не расскажу, отвалите».
…Два или три дня был суд. Как правило, эти процессы были закрытыми. Моих родителей-фронтовиков, членов партии, не пустили в зал суда. Не пустили и Некрасова, фронтовика, лауреата Сталинской премии. В зале — только солдаты и участники процесса… Была и «их» адвокат. Других адвокатов не было и не могло быть, во-первых, по формальным причинам — речь шла об особо опасном государственном преступлении, не все адвокаты имели право участвовать в таких процессах. Ну и потом, адвокаты ведь тоже люди…
Моя адвокат, как рассказывали мне впоследствии родители, была в свое время бесстрашной юной партизанкой. Она не боялась немцев, но своих — боялась. Как только все вышли, в том числе прокурор, судья, остались только солдаты, которые охраняли меня, и адвокат. Она, нормальная в общем-то женщина, не хочу называть ее фамилию, потому что остались ее дети, внуки, вдруг поворачивается ко мне с лицом бордового цвета. Она страшно волновалась, и я не понимал, почему. Это я должен был волноваться — ей-то что. Она обратилась ко мне по моему домашнему имени: «Слава, я перед началом сегодняшнего заседания беседовала с вашими родителями. Они умоляют вас: отнеситесь к этому всерьез. Вы должны облегчить свою судьбу, вы должны сказать хоть что-то. Потому что они пожилые люди, не доживут до вашего освобождения» (мама умерла, когда я сидел). Я, глядя на адвоката, тоже эмоционально зажигаясь, сказал: «Передайте моим родителям, что я не могу этого сделать». Адвокат воскликнула: «Ну почему, ведь будет же меньше срок!» «Я не могу, потому что если я это сделаю, то когда меня привезут обратно в камеру, я должен буду искать веревку. Я не смогу с этим жить. Я хочу, чтобы вот это все остановилось на мне». У нее разгладилось лицо. Она спросила: «Вы можете это сказать судье?» Я говорю: «Да ради Бога, я могу это сколько угодно говорить, но судья ж не спросит». Она сказала: «Я сейчас пойду и все устрою…»
Через год, когда я уже был в лагере, за тысячу километров от Киева, ко мне приехали на свидание родители, два старика. И я спросил их: «Как вы могли просить меня о таком?» Оказалось, что на самом деле этого не было, они не обращались с такой просьбой...
Вот это ужасно. Этот безумный страх. Это была незабываемая сцена, когда адвокат светлеет лицом, она выглядит просто счастливой оттого, что у нее не получилось. И в подтверждение ее слов судья действительно тогда задал мне тот вопрос…
Что еще важно. Свидетели, которые дали на меня показания о том, что я давал им читать самиздат, были хорошими людьми…
У меня ничего не изъяли. К материалам дела присоединили документы, которые сотрудники ГБ взяли откуда-то из своих хранилищ, вероятно, изъятые у кого-то другого. Но я молчал. Я же хотел меньший срок, а не больший.
На свидании в лагере мама рассказала мне, что была попытка выхода на судью. Папин близкий друг был известный в Киеве терапевт, и он лечил этого судью и всю его семью. По просьбе моих родителей доктор тайно встретился с женой судьи. Позднее тот передал, что очень сожалеет, но ничего не может изменить. Я видел, что судья мне симпатизирует, но это не мешало ему сделать то, что он сделал. Как крокодил, который плачет.
Поскольку инкриминировалась статья 62 Уголовного кодекса, агитация и пропаганда, я задавал всем свидетелям один и тот же вопрос: «Во время общения с вами занимался ли я антисоветской агитацией?» Все отвечали: «Нет-нет». А судья каждый раз говорил: «Это я буду решать!»
Сергей Набока, диссидент, дважды судимый, однажды сообщил, что узнал, кто из его близких друзей и родственников давал на него показания. Сообщил, что он имеет на руках свое оперативное дело.
В то время заместителем председателя СБУ был Владимир Пристайко, я дружил с ним. Как-то на приеме в английском посольстве в честь дня рождения королевы Владимир Ильич, увидев Сергея Набоку, попросил меня познакомить с ним. Он сказал: «Сергей, я знаю фамилию человека, который продал вам ваше досье. Прошу вас, это живые люди, или уничтожьте досье, или отдайте мне». Сергей тогда резко высказался насчет того, что он сам будет решать. Но, слава Богу, он никого не назвал, он же был нормальный человек, пугал только.
Вообще-то любая полицейская система обязана уничтожать оперативные архивы. Владимир Пристайко потом рассказал мне, как уничтожаются такие документы у нас. Есть специальный журнал, в котором расписывался каждый офицер, уничтожив дело. Офицер, который якобы уничтожил архив, касающийся Набоки, через несколько недель ушел на пенсию. А накануне вышел через кого-то на Сергея с предложением, и тот купил свое дело. За доллары, естественно. Страшно было то, что, как выяснилось, против него действительно свидетельствовали близкие родственники…
После этой истории я задумался вот о чем. Если я иду против власти в такой стране, как СССР, вслух говорю то, чего говорить не положено, или пишу — что еще страшнее, я должен нести ответственность за судьбу своих близких. Ведь если бы Набока, Глузман, Светличный не занимались этой так называемой диссидентской деятельностью (да по сути ничем не занимались, просто говорили вслух), то никто из ГБ не вербовал бы наших близких и родственников. Если кто-то из моих близких стал осведомителем ГБ и был сломан на каком-то компромате, то первопричина была во мне. Понимаю, здесь нет однозначного ответа. Но об этом надо говорить. Вслух.
Поэтому такая изломанная психика у этих донецких, луганских, днепропетровских, киевских. Просто мы здесь получили немного другие возможности. Разве не вербовали в Западной Украине? Вербовали. Но там своя специфика. Во всяком случае, никто из западноукраинских негодяев не смог стать первым секретарем обкома партии просто потому, что он уроженец Западной Украины.
Был у меня очень близкий друг. Самый близкий. Как и я — молодой врач. Его сломали.
Была очная ставка. Я все отрицал. Мне было безумно тяжело, это был самый тяжелый эпизод моей жизни внутри КГБ. После того, как закончилась очная ставка, следователь сказал: «Да ладно, Семен, не переживайте вы так, мы-то знаем, что он мог гораздо больше сказать…»
Когда через 10 лет я вернулся, то хотел встретиться со своим другом. Понятно, что я на тот момент уже стал другим, стал активным антисоветчиком, со мной уже все было ясно. Но с Вовой я хотел встретиться, чтобы обнять его и сказать, что я все понимаю и давно простил… Я начал искать его. И когда я случайно встретил нашего общего знакомого, тот сказал мне: «Вовы нет. Неделю назад он покончил с собой…»
И вот это самое страшное в Системе.

