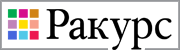

Память о друге
https://racurs.ua/2174-pamyat-o-druge.htmlРакурсОн очень хотел жить в Израиле. Тогда это было преступлением. Пришлось — сесть. Надолго. В зоне он входил в еврейскую общину, как когда-то называли, семью. Мое первое впечатление о нем — внимательные глаза и молчание. Другие, Гиля Бутман и Арье Хнох, хлопотали вокруг меня, свежего зэка, кормили, что-то объясняли про лагерные будни… А Толя меня изучал. По-видимому, что-то во мне показалось ему чужим, ненастоящим.
Но он не был молчуном. Совсем наоборот: он, отсидев к тому времени около пяти лет, был неиссякаемым источником анекдотов. От серии «армянского радио», о Чапаеве, о «чукчах» — до разрозненной народной мудрости на тему Брежнева, КГБ и милых сексуальных ситуаций.
А еще он очень любил сладости. Которых в зоне, естественно, не было. Исключение — лежалые, склеившиеся вытекшим из них повидлом «подушечки» на 1 рубль килограмм. При допустимой норме отоваривания на строгом режиме в 5 рублей в месяц. В израильской (именно так) лагерной семье все было общим. Хозяйством руководил Арье Хнох. Однажды во время общего ужина в бараке у тумбочки я присутствовал при такой сцене. Пили чай, по два глотка, не более. Далее металлическая кружка передавалась соседу. Чай сопровождали подушечкой, одной на два глотка, Толя взял слипшуюся, состоявшую из раздавленных трех или четырех. На замечание возмущенного Хноха отреагировал так: «Я же взял бракованную!».
Милый Толя. Иногда колючий. Чаще — теплый, искренний и отгораживающий себя интеллектуал, искавший поддержку в учении Будды. У него были две или три книги с такими текстами. Всегда принимавший участие в наших акциях лагерного сопротивления. Однажды он влюбился! В красивую молодую женщину, работавшую в администрации нашего лагерного производства. По нашей зоне, содержавшей особо опасных государственных преступников, женщины ходили без опаски. Отдрессированные офицерами КГБ, никогда не вступали с нами в контакт.
Уж не знаю, где и как прошли их первые свидания. Короткие, молниеносные. Но… два сердца встретились. Кто-то настучал, ей пришлось уволиться. Оформляя документ об отсутствии материальной задолженности, она должна была получить подпись библиотекаря. Тогда нашим библиотекарем был Свитлычный. Получив подпись, прощаясь, она сказала Ивану Алексеевичу: «Прошу вас, никому здесь не верьте. Все они стукачи!». И — ушла. Навсегда. Из зоны и из толиной жизни.
Толя держался. Больше обычного молчал. Окаменел. Его близкий друг Лева Ягман ежедневно о чем-то говорил с ним, по-видимому, утешал, мягко поясняя абсолютную невозможность такой любви.
А потом, спустя месяцы, опять были анекдоты. Периодически заводская раздевалка содрогалась взрывами хохота. Надзиратели на это не реагировали, привыкли. Но Толя начал повторяться. Эти анекдоты мы уже слышали. Кто-то из нас сказал: «Толя, тебе пора на свободу. За свежими анекдотами. Потом вернешься».
Нет Толи. Нигде нет. Прожив долгие, трудные и счастливые годы в Израиле, умер. Как все мы умрем. И никто не всплакнул о нем в Черновцах, где он родился. И в Одессе, где он жил и которую любил безмерно. Уж не знаю, как в моем вывезенном из лагеря и ссылки архиве оказалось эссе Толи Альтмана о любимой его Одессе. Там, в лагере, я переписал его и храню сегодня. Зачем храню? Не знаю. Это — как пуговица от бушлата друга, не вернувшегося с войны. Память о друге.

